КАПЕЛЛАН АНГЕЛА
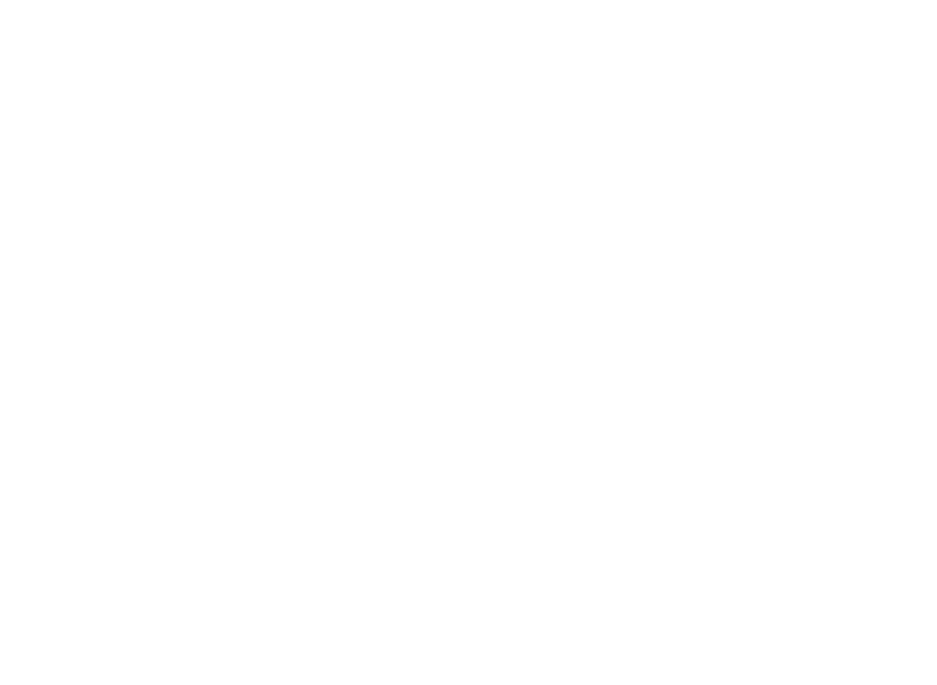
…Как этот таинственный народ всучил мне по весне старика Уильяма Пратта — до сих пор изумляюсь, но ведь вот факты: под метровым полотном с нарисованной принцессой Прекшия (красное сари из бесценного хлопка лунги, властный взгляд) сирда́р Панишвар и двое квартирьеров британской экспедиции на Канченджангу, с февраля любившие в Катманду непальских женщин, ракшу и тушеное мясо гако́к, расписывали мне прелести путешествия через Бесисаха́р на машине:
— Вы просто не понимаете, сэр… Вертолет всё равно только через неделю, а двигаться с караваном это просто му́ка, вы проглотите тонны пыли… Мистер Пратт согласится, вот увидите… В его Mercedes есть место… Надо только проявить… Как это?
— Подход, — подсказываю я по-русски.
— О, да! Pod hod!
Я крутил в задумчивости лямку рюкзака и посматривал на картину, занимавшую соседнее с принцессой Прекшия пространство: там лев бесстрашный пытался сожрать незадачливого охотника, и почему-то художник добавил к этой трагедии родственников-наблюдателей, изумлённо раскрывших черные подведённые глаза (непролитые слёзы); что-то эти фигурки в стиле высокогорного примитивизма мне напомнили, и искоркой в голове: Нико Пиросмани… Да, точно. «Лев и Солнце», холст, краски.
— Ну хорошо, — сдался я (квартирьеры загалдели). — Ладно, парни… А наши баулы на экспедиционник лягут?
— Лягут! — взволнованно крикнул сирдар. — И ещё место останется! Там даже я лягу, сэр!
— Вы просто не понимаете, сэр… Вертолет всё равно только через неделю, а двигаться с караваном это просто му́ка, вы проглотите тонны пыли… Мистер Пратт согласится, вот увидите… В его Mercedes есть место… Надо только проявить… Как это?
— Подход, — подсказываю я по-русски.
— О, да! Pod hod!
Я крутил в задумчивости лямку рюкзака и посматривал на картину, занимавшую соседнее с принцессой Прекшия пространство: там лев бесстрашный пытался сожрать незадачливого охотника, и почему-то художник добавил к этой трагедии родственников-наблюдателей, изумлённо раскрывших черные подведённые глаза (непролитые слёзы); что-то эти фигурки в стиле высокогорного примитивизма мне напомнили, и искоркой в голове: Нико Пиросмани… Да, точно. «Лев и Солнце», холст, краски.
— Ну хорошо, — сдался я (квартирьеры загалдели). — Ладно, парни… А наши баулы на экспедиционник лягут?
— Лягут! — взволнованно крикнул сирдар. — И ещё место останется! Там даже я лягу, сэр!
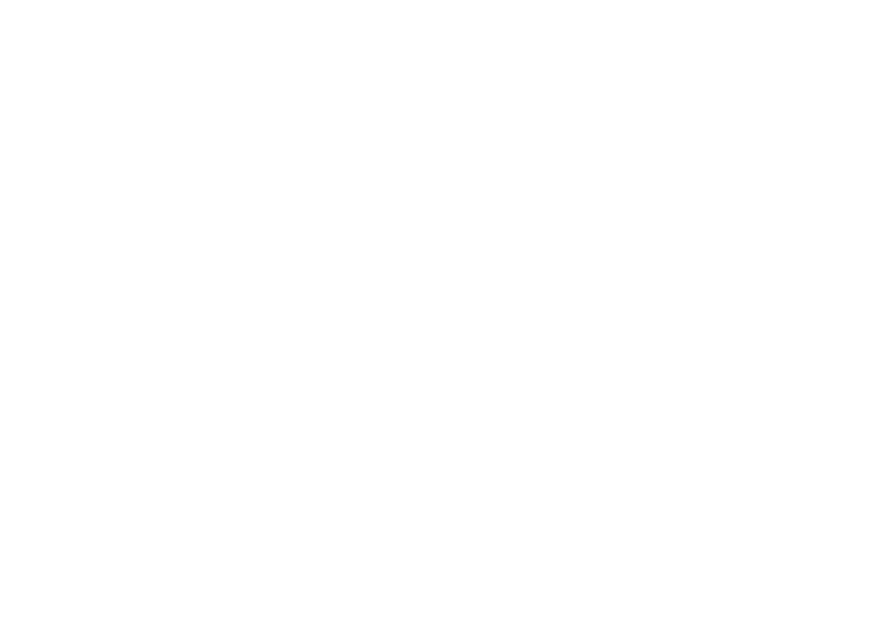
…Тот сезон в Гималаях был скверным; жизнь в Непале текла вроде бы по-старому, англичане по-прежнему нанимали на службу гуркхов (и те по-прежнему отправляли из Лондона в Катманду 30 миллионов долларов ежегодно, а в переводе на фунты — путались безбожно), портеры и туристические агенты по-прежнему впаривали каждому встречному Чоба́рское ущелье не шире лезвия ножа, в которое уходят воды священной реки Багма́ти; дипломаты по-прежнему тащили меня в музей основателя «Клуба трёхсот» Бориса Лиссаневича — офицера флота Его Императорского Величества, человека судьбы феерической, эмигрировавшего в 1923 году во Францию, танцевавшего в труппе Сергея Дягилева (!) «Русские сезоны», после чего восьмой король Непала Трибхува́н и зазвал офицера-балеруна в Катманду (говорят, пьяный Лиссаневич в первый же день встретил на улице леопарда нос к носу, тот на русского не польстился, и Борис, поражённый сим обстоятельством, решил осесть подле гостеприимного Будды до конца дней)… На тропах и рисовых террасах Басантапура тебе по-прежнему с улыбкой говорили «Нама́стэ!», а мохнатые яки всё так же угрюмо тащили из аэропорта Лу́клы в горы серо-голубые грузы экспедиций, маркированные на всех языках мира…
Вроде, всё так.
Да не так.
Весна в этом году вздумала повторить подвиги осени, когда снегопад даже в базовом лагере под Аннапурной складывал палатки словно карточные домики; под южной стеной восьмитысячника русская экспедиция установила ночное дежурство — под двухметровым слоем снега в палатке человек запросто может задохнуться, особенно если спать без кислородной маски, а на самой южной стене группы сообщали по рации: два метра вверх сделали… три… Сделали пять, вот молодцы!
Это не шутка.
Пять метров в сутки по южной стене Аннапурны... в такую погоду — это был подвиг; сказал Геродот, подтвердили финикийцы, мидяне: “Обычно люди видят во сне то, о чем они думают днем”; снилась ли остальным вершина?
Не знаю. Мне — да.
А ещё около шести тысяч заболел Сережа Сароян… Скандинавская группа гнала его вниз ледорубами: если начнётся высотный отек легких — баста, до свидания… Несколько суток вымотанные до полуобморочного состояния ребята тащили заболевшего вниз, в ABC, протропив на леднике настоящую траншею. Оставшиеся на стене восходители три дня откапывали перильные веревки: снег.
Снег, снег, снег.
И нынче, весной — он же.
Такое ощущение, что в этот сезон Гималаи просто хотели от нас отдохнуть. Надоели мы им со своими экспедициями — спасу нет.
Я торчал на высоте уже второй месяц, швейцарский врач из команды Ная Старка пару недель назад послушал мои лёгкие — и отослал на недельку в Катманду, в тепло. Я должен был вернуться вертолётом в ABC Аннапурна, но пилоты королевских ВВС задержали рейс из-за погоды.
Три дня? Пять?
А черт его знает… Сижу, лежу, ем, сплю в крохотной гостинице недалеко от аэропорта, вижу цветные и черно-белые сны, порой дурные и сложные, порой - красивые до неприличия. Вот, например, приснилась вся наша группа в XIX веке; кажется, это Альпы; кажется, это Елена внизу, а благородный Александр Островский исполняет долг.
Ну, ладно.
Вроде, всё так.
Да не так.
Весна в этом году вздумала повторить подвиги осени, когда снегопад даже в базовом лагере под Аннапурной складывал палатки словно карточные домики; под южной стеной восьмитысячника русская экспедиция установила ночное дежурство — под двухметровым слоем снега в палатке человек запросто может задохнуться, особенно если спать без кислородной маски, а на самой южной стене группы сообщали по рации: два метра вверх сделали… три… Сделали пять, вот молодцы!
Это не шутка.
Пять метров в сутки по южной стене Аннапурны... в такую погоду — это был подвиг; сказал Геродот, подтвердили финикийцы, мидяне: “Обычно люди видят во сне то, о чем они думают днем”; снилась ли остальным вершина?
Не знаю. Мне — да.
А ещё около шести тысяч заболел Сережа Сароян… Скандинавская группа гнала его вниз ледорубами: если начнётся высотный отек легких — баста, до свидания… Несколько суток вымотанные до полуобморочного состояния ребята тащили заболевшего вниз, в ABC, протропив на леднике настоящую траншею. Оставшиеся на стене восходители три дня откапывали перильные веревки: снег.
Снег, снег, снег.
И нынче, весной — он же.
Такое ощущение, что в этот сезон Гималаи просто хотели от нас отдохнуть. Надоели мы им со своими экспедициями — спасу нет.
Я торчал на высоте уже второй месяц, швейцарский врач из команды Ная Старка пару недель назад послушал мои лёгкие — и отослал на недельку в Катманду, в тепло. Я должен был вернуться вертолётом в ABC Аннапурна, но пилоты королевских ВВС задержали рейс из-за погоды.
Три дня? Пять?
А черт его знает… Сижу, лежу, ем, сплю в крохотной гостинице недалеко от аэропорта, вижу цветные и черно-белые сны, порой дурные и сложные, порой - красивые до неприличия. Вот, например, приснилась вся наша группа в XIX веке; кажется, это Альпы; кажется, это Елена внизу, а благородный Александр Островский исполняет долг.
Ну, ладно.
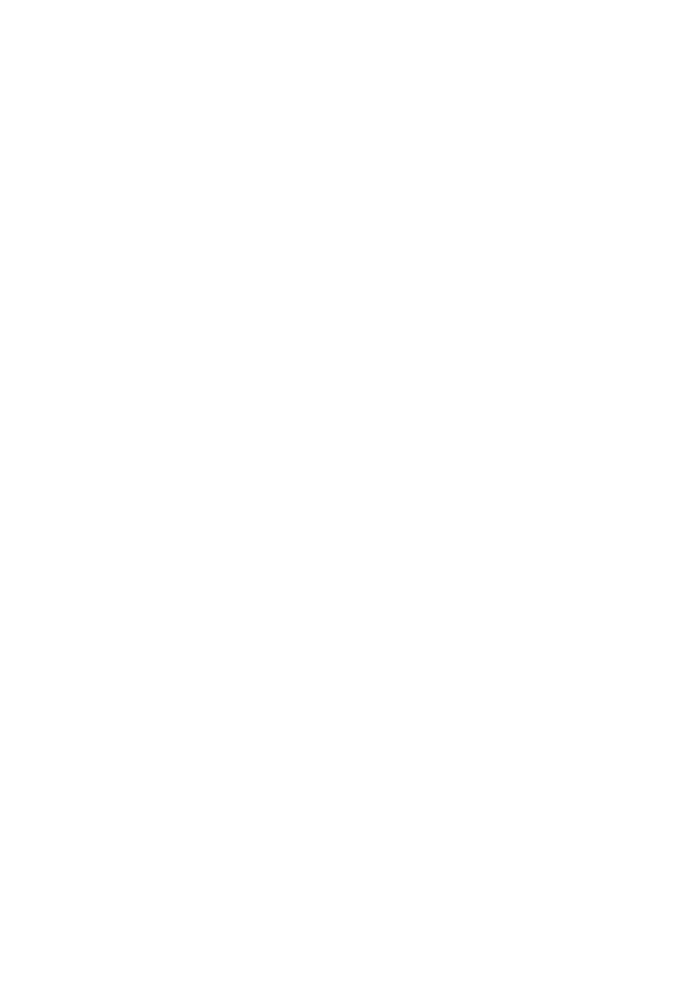
И, на самом-то деле, попутка хотя бы на часть дороги — это было здорово. Оптимальным было бы выехать из Катманду часиков в шесть утра в Бесисахар, даже если мы будем в деревушке после обеда — не страшно, так или иначе в Бесисахаре нужно заливать горючкой баки, дополнительные канистры, промыть и починить всё, что возможно промыть и починить… Отдохнуть, поесть. У старика Пратта, как мне сказал сирдар, собственный джип Mercedes Gelandewagen (я поначалу подумал — врут, сволочи; вы знаете, сколько стоит машиноместо транспортного самолета до Катманду?), а это означает, что мне не придется платить порядка 6000 рупий за арендованную местную колымагу. На следующее утро можно стартовать в местечко Чамче, а вот уж от Чамче — как фишка ляжет… Где-то там должен нас ждать Да́ва При́тви, шерпа британской экспедиции, который, по словам Уильяма, и отгонит джип назад в Катманду, «…и уж точно сделает это лучше меня, старика… Он тут водит пятнадцать лет и людей, и машины…»
И день на акклиматизацию в Мананге — это классика.
— …Ну так как, сэр? Вы решили? Вертолет только через неделю!
Лампа у них горит так, словно воспитывалась в приюте: ни света, ни тьмы. Вертолёт. Неделя.
Решил.
Никаких подвигов этой весной уже точно не будет. Год 1996-й, шторм на Эвересте — двенадцать жизней за раз… Весна 1997-го, Аннапурна — ни одной. 2012 год - всё Ок. Наша весна на горе - ?
Пусть так и останется. Правда, накрывается медным тазом фотосессия вершины Кангтега за деревушкой Пфериче… Ну, да не судьба. Подскочим в базовый лагерь, пару недель тусуюсь не выше шести – шести тысяч пятьсот; коньяк, мясо, гитара у французов, красивые итальянские девушки там же… плюс у новозеландцев тоже юные леди ого-го. А потом — в Москву.
— Едем! А где мистер Пратт?
…Старик Уильям Пратт вьючил во дворе свой Mercedes, и делал это абсолютно молча. Также молча он принял мой баул и рюкзак, затянул их лентами на экспедиционном багажнике, и я обратил внимание, что у Пратта не было взгляда великодушного героя, бредущего по солнечной долине навстречу счастью: полузлоба-полуапатия были в глазах, седая борода и седая же шевелюра невообразимого объёма тихо шуршали по бочинам джипа, когда Уильям затягивал багажные тросы: ш-шур-рр, ш-шур-рр… Даже одет он был сурово: вместо стандартного для здешних мест gore-tex — какая-то дикая охотничья вестерн-куртка, от пыли стоявшая колом, да усиленные кожаными заплатами на коленях широченные штаны, заправленные в ковбойские сапоги.
Американец. Что уж тут. Лет 60? 65? Не разобрал пока.
…Так мы с моим новым знакомым Уильямом Праттом и двинули поутру в базовый лагерь под Аннапурной, и в двенадцати часах лёту от нашей разбитой гималайской дороги лежала моя страна, где Старая площадь устраивала прекрасную жизнь для немногих взамен хорошей жизни для всех, а в двадцати двух часах — страна старого Уильяма, где заступивший на вторую вахту господин Обама что-то обещал на тему лучшей жизни, но за праздничными флажками и конфетти демократов суть обещаний ускользала. Когда наш Gelandewagen защёлкал первыми камешками в створе долины, я подумал, что он походит на тёплый знакомый трамвай, который вышел из депо на финишную прямую — и больше уже никогда туда не вернётся. Ему надоело стойло. Он хочет ввысь. А как кончатся провода — он потренькает на прощание. И взлетит.
Пратт не доверил мне руль, я надел Mercedes на босу ногу: стащил ботинки, развалился, пристроил поближе к себе тангенту рации; что-то резкое спел о любви Эндрю Флетчер, а за ним пошёл виолончельный металл Apocalyptica, струны выли, словно банду чертей выпустили на волю.
Потом я совсем пригрелся, по сторонам смотрел прищурившись.
А там были — Гималаи.
Это на ме́ртвенных каталожных картинках кажется, что Гималаи — «просто стоят». На самом же деле Гималаи ежесекундно устраивают ловлю зрителя, играют короля планеты, дают на сцену звук, свет и актёров. Джип на гигантском гималайском серпантине и обычная тропа — в восторге одинаковы; «бульма – цак – дзанга…» — стучат копыта лохматых яков по каменным плитам троп, «анц – кар – клац…» — выстреливают шины осколки гранита, и ты смотришь сквозь боковое стекло на носильщиков, присевших с грузами вдоль дороги, и мелькают: кеды родом из Поднебесной, черные пятки по́ртеров, кроссовки безродные вовсе… Минута, пять, и вновь: кеды, пятки, кроссовки… Собачий нос чихает в пыли: а-аапчхи! Позже носильщики свернут от дороги, примутся за трудный тяжкий путь вверх по долине, отдыхая изредка на специальных скамьях — чауда́ре, каждая из которых сложена из двух огромных каменных плит: верхняя плита — для поклажи носильщика (сперва он ставит туда свой груз, освобождая налобную ленту), нижняя — под худенькое тело… Их изматывающий путь будет лежать вдоль молитвенных стен mani wall и священных ступ чарте́на, обходить которые нужно всегда только слева, вращая молитвенные барабаны правой рукой: «Ом мане падме хум… Ом мане падме хум…»
Портеры идут по тысячелетним торговым путям, и пути эти и в районе Аннапурны, и выше знаменитого селения Лу́кла, и в долине Кали-Ганда́ки — не тропы даже, а виртуозные каменные архитектурные сооружения; там, южнее, мимо пыльных водопадов и сверкающих золотом монастырских крыш носильщики перенесут свой груз сквозь терпкие хвойные леса, поднимутся под колоссальных размеров морены, где уже стылый ветер выматывает, где от сухого воздуха першит горло, и повернут в сторону ледников, к базовым лагерям высотных экспедиций; тропы же вечные пойдут дальше, сквозь разрушенные за миллионы лет высокогорные плато — в таинственное королевство Мустанг, а через пять дней пути — в дикие каменные пустыни Тибета.
И я провожаю взглядом эти маленькие спины, согнувшиеся под тяжеленными плетёными корзинами и баулами, и думаю, что это очень странно: нас уже всех не будет на планете, а эти каменные тропы и дороги — они и в самом деле вечны.
…За два дня пути мы со стариком Праттом говорили мало. Меня это тяготило. Дело в том, что Уильям неплохо знал русский, и от этого было вдвойне неловко. Мы как-то вскользь обменивались необходимыми служебными командами (подай то, налей это, закрепи здесь… рацию на прослушку… а вот тот камень, сволочь, не объехать…), по отдельности молча слушали рассказы тибетцев; сухо и отрывочно комментировали маленькие наши события, наблюдали. Дорога несколько раз пересекала столетние торговые пути из южных долин Тибета и тропы из долин северных, и на их перекрестии десятки негоциантов заранее, задолго до предстоящего базара предлагали друг другу драгоценные камни и бусы из тигрового глаза, серебряные браслеты и меховые шапки, роскошные набивные ткани и овощи, рис, фрукты. Предлагали нам «молоко яка», так мне бросил старик Уильям: «Там бурдюк молока яка недорого, будем брать?», и черт меня дернул тут встрянуть: я с улыбкой (молчание уже начинало тревожить) сказал Пратту, что молока яка не бывает, так как як — особь мужская, а особь женская — это «нак»; старик фыркнул, надулся — и до звёзд мы уже в тот день не говорили ни о чем.
На третий день, выше селения Чамче, Уильям Пратт неожиданно сам предложил мне прогуляться на террасы. Погода стояла теплая, ветер стих, над рисовыми пятнами висели разноцветные тибетские флажки, стада колокольчиками наигрывали нам со всех сторон: трали – трали – трали… Ом мане падме хум… Мы дали вдоволь мыла и воды Gelandewagen-у (Пратт абсолютно не разделял мнение многих джиперов о пользе заскорузлой грязи для техники), заботливо джип протерли полотенцами, позвонили по спутниковому телефону шерпе Дава Притви, у которого, конечно же, никакого телефона отродясь не было, а был он у сирдара британцев, и сирдар нам сказал: «Намастэ!»
Ну, и вам не хворать.
…Горы с этой точки уже выглядели ирреальными, масштаб поражал, не верилось, что такие громады могут существовать не Земле без ущерба собственно земной поверхности: продавит, сомнёт… За каменной грядой, которую венчала древняя молитвенная ступа, у тропы стоял мальчик лет пятнадцати, в оранжевых монашеских одеждах; услышал нас, обернулся — о, глаза́… Я знаю эти тибетские глаза: каков бы ни был возраст их обладателя — он всегда лет на триста тебя старше.
В руке у мальчика был уголь. На плоском камне он рисовал что-то странное. Мы с Праттом подошли, поздоровались. Я посмотрел на рисунок: какое-то существо из ошибок, всё у него не так, но вот лицо — лицо с оттенком благородства, тонкие черты; такие лица не толпятся попусту.
И день на акклиматизацию в Мананге — это классика.
— …Ну так как, сэр? Вы решили? Вертолет только через неделю!
Лампа у них горит так, словно воспитывалась в приюте: ни света, ни тьмы. Вертолёт. Неделя.
Решил.
Никаких подвигов этой весной уже точно не будет. Год 1996-й, шторм на Эвересте — двенадцать жизней за раз… Весна 1997-го, Аннапурна — ни одной. 2012 год - всё Ок. Наша весна на горе - ?
Пусть так и останется. Правда, накрывается медным тазом фотосессия вершины Кангтега за деревушкой Пфериче… Ну, да не судьба. Подскочим в базовый лагерь, пару недель тусуюсь не выше шести – шести тысяч пятьсот; коньяк, мясо, гитара у французов, красивые итальянские девушки там же… плюс у новозеландцев тоже юные леди ого-го. А потом — в Москву.
— Едем! А где мистер Пратт?
…Старик Уильям Пратт вьючил во дворе свой Mercedes, и делал это абсолютно молча. Также молча он принял мой баул и рюкзак, затянул их лентами на экспедиционном багажнике, и я обратил внимание, что у Пратта не было взгляда великодушного героя, бредущего по солнечной долине навстречу счастью: полузлоба-полуапатия были в глазах, седая борода и седая же шевелюра невообразимого объёма тихо шуршали по бочинам джипа, когда Уильям затягивал багажные тросы: ш-шур-рр, ш-шур-рр… Даже одет он был сурово: вместо стандартного для здешних мест gore-tex — какая-то дикая охотничья вестерн-куртка, от пыли стоявшая колом, да усиленные кожаными заплатами на коленях широченные штаны, заправленные в ковбойские сапоги.
Американец. Что уж тут. Лет 60? 65? Не разобрал пока.
…Так мы с моим новым знакомым Уильямом Праттом и двинули поутру в базовый лагерь под Аннапурной, и в двенадцати часах лёту от нашей разбитой гималайской дороги лежала моя страна, где Старая площадь устраивала прекрасную жизнь для немногих взамен хорошей жизни для всех, а в двадцати двух часах — страна старого Уильяма, где заступивший на вторую вахту господин Обама что-то обещал на тему лучшей жизни, но за праздничными флажками и конфетти демократов суть обещаний ускользала. Когда наш Gelandewagen защёлкал первыми камешками в створе долины, я подумал, что он походит на тёплый знакомый трамвай, который вышел из депо на финишную прямую — и больше уже никогда туда не вернётся. Ему надоело стойло. Он хочет ввысь. А как кончатся провода — он потренькает на прощание. И взлетит.
Пратт не доверил мне руль, я надел Mercedes на босу ногу: стащил ботинки, развалился, пристроил поближе к себе тангенту рации; что-то резкое спел о любви Эндрю Флетчер, а за ним пошёл виолончельный металл Apocalyptica, струны выли, словно банду чертей выпустили на волю.
Потом я совсем пригрелся, по сторонам смотрел прищурившись.
А там были — Гималаи.
Это на ме́ртвенных каталожных картинках кажется, что Гималаи — «просто стоят». На самом же деле Гималаи ежесекундно устраивают ловлю зрителя, играют короля планеты, дают на сцену звук, свет и актёров. Джип на гигантском гималайском серпантине и обычная тропа — в восторге одинаковы; «бульма – цак – дзанга…» — стучат копыта лохматых яков по каменным плитам троп, «анц – кар – клац…» — выстреливают шины осколки гранита, и ты смотришь сквозь боковое стекло на носильщиков, присевших с грузами вдоль дороги, и мелькают: кеды родом из Поднебесной, черные пятки по́ртеров, кроссовки безродные вовсе… Минута, пять, и вновь: кеды, пятки, кроссовки… Собачий нос чихает в пыли: а-аапчхи! Позже носильщики свернут от дороги, примутся за трудный тяжкий путь вверх по долине, отдыхая изредка на специальных скамьях — чауда́ре, каждая из которых сложена из двух огромных каменных плит: верхняя плита — для поклажи носильщика (сперва он ставит туда свой груз, освобождая налобную ленту), нижняя — под худенькое тело… Их изматывающий путь будет лежать вдоль молитвенных стен mani wall и священных ступ чарте́на, обходить которые нужно всегда только слева, вращая молитвенные барабаны правой рукой: «Ом мане падме хум… Ом мане падме хум…»
Портеры идут по тысячелетним торговым путям, и пути эти и в районе Аннапурны, и выше знаменитого селения Лу́кла, и в долине Кали-Ганда́ки — не тропы даже, а виртуозные каменные архитектурные сооружения; там, южнее, мимо пыльных водопадов и сверкающих золотом монастырских крыш носильщики перенесут свой груз сквозь терпкие хвойные леса, поднимутся под колоссальных размеров морены, где уже стылый ветер выматывает, где от сухого воздуха першит горло, и повернут в сторону ледников, к базовым лагерям высотных экспедиций; тропы же вечные пойдут дальше, сквозь разрушенные за миллионы лет высокогорные плато — в таинственное королевство Мустанг, а через пять дней пути — в дикие каменные пустыни Тибета.
И я провожаю взглядом эти маленькие спины, согнувшиеся под тяжеленными плетёными корзинами и баулами, и думаю, что это очень странно: нас уже всех не будет на планете, а эти каменные тропы и дороги — они и в самом деле вечны.
…За два дня пути мы со стариком Праттом говорили мало. Меня это тяготило. Дело в том, что Уильям неплохо знал русский, и от этого было вдвойне неловко. Мы как-то вскользь обменивались необходимыми служебными командами (подай то, налей это, закрепи здесь… рацию на прослушку… а вот тот камень, сволочь, не объехать…), по отдельности молча слушали рассказы тибетцев; сухо и отрывочно комментировали маленькие наши события, наблюдали. Дорога несколько раз пересекала столетние торговые пути из южных долин Тибета и тропы из долин северных, и на их перекрестии десятки негоциантов заранее, задолго до предстоящего базара предлагали друг другу драгоценные камни и бусы из тигрового глаза, серебряные браслеты и меховые шапки, роскошные набивные ткани и овощи, рис, фрукты. Предлагали нам «молоко яка», так мне бросил старик Уильям: «Там бурдюк молока яка недорого, будем брать?», и черт меня дернул тут встрянуть: я с улыбкой (молчание уже начинало тревожить) сказал Пратту, что молока яка не бывает, так как як — особь мужская, а особь женская — это «нак»; старик фыркнул, надулся — и до звёзд мы уже в тот день не говорили ни о чем.
На третий день, выше селения Чамче, Уильям Пратт неожиданно сам предложил мне прогуляться на террасы. Погода стояла теплая, ветер стих, над рисовыми пятнами висели разноцветные тибетские флажки, стада колокольчиками наигрывали нам со всех сторон: трали – трали – трали… Ом мане падме хум… Мы дали вдоволь мыла и воды Gelandewagen-у (Пратт абсолютно не разделял мнение многих джиперов о пользе заскорузлой грязи для техники), заботливо джип протерли полотенцами, позвонили по спутниковому телефону шерпе Дава Притви, у которого, конечно же, никакого телефона отродясь не было, а был он у сирдара британцев, и сирдар нам сказал: «Намастэ!»
Ну, и вам не хворать.
…Горы с этой точки уже выглядели ирреальными, масштаб поражал, не верилось, что такие громады могут существовать не Земле без ущерба собственно земной поверхности: продавит, сомнёт… За каменной грядой, которую венчала древняя молитвенная ступа, у тропы стоял мальчик лет пятнадцати, в оранжевых монашеских одеждах; услышал нас, обернулся — о, глаза́… Я знаю эти тибетские глаза: каков бы ни был возраст их обладателя — он всегда лет на триста тебя старше.
В руке у мальчика был уголь. На плоском камне он рисовал что-то странное. Мы с Праттом подошли, поздоровались. Я посмотрел на рисунок: какое-то существо из ошибок, всё у него не так, но вот лицо — лицо с оттенком благородства, тонкие черты; такие лица не толпятся попусту.
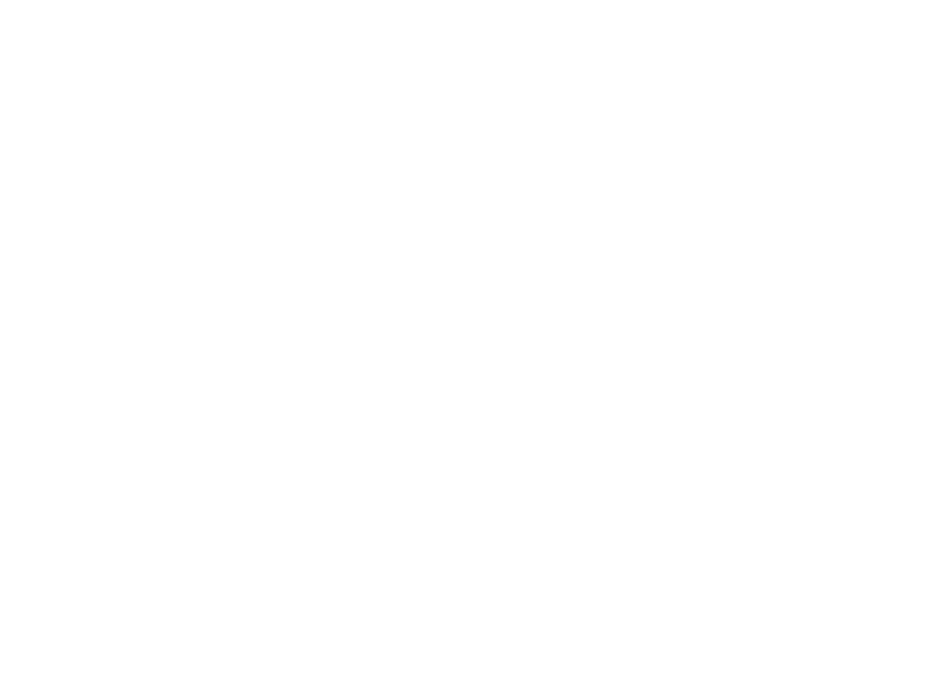
— Скажи пожалуйста, кто это? — спросил я.
Было видно, что мальчик выискивает слово именно для европейца (тибетская учтивость к иноземцу).
Нашёл. Произнёс:
— Это ангел, сэр.
Он это сказал на чистейшем английском, и удивительного тут мало: по облику юноши совершенно очевидно, что школу он посещает, и не факт, что только в Азии; я встречал в Непале, порой в самых глухих местах, молодых людей образования отменного, и карту метро Лондона они, кстати, знали лучше меня.
— А кто же э́то такой? — спросил Уильям, указав пальцем.
Там был второй угольный нарисован, поменьше, фигурка неказистая, длинные волосы прибраны резинкой, и вокруг тела то ли халат, то ли… мешок какой-то с рукавами.
— Это капеллан ангела, сэр, — уверенно сказал монах. — Он прикрывает свечу, чтобы ангелу были лучше видны звёзды. Но я не успел до вашего прихода нарисовать свечу и звёзды. Извините, сэр.
…А вот это было совершенно по-тибетски.
Это и есть буддизм.
Это серьёзно. Каждое слово — «цитата в мембране времени», как говорил мне один востоковед.
Пратта, видимо, тоже прохватило. Он молитвенно сложил ладони под подбородком, поклонился мальчику и сказал:
— Извини, что мы тебя отвлекли. Мы пойдём. Прости только за любопытство: ты учился в Европе?
— В Китае, сэр. В Пекине. Два года.
— О, тогда всё понятно. Удачи!
…Мы набрали по тропе меж рисовых полей метров сто высоты, на удобном плоском валуне уселись, Уильям достал хлеб с мясом, немного вина. Принялись жевать и чавкать. Молчать. Но уж сколько можно молчать, третий день. И старина Пратт с усмешкой заявил:
— Тот техасский чудак-миллионер, Том Слик. Слышал, Лев? Искал здесь йети. Всё порывался исследовать скальп йети из монастыря Кхумбу. Исследовали. Оказалось — череп дикой гималайской козы возрастом около трёхсот лет. Подделка.
Я решил пойти ва-банк:
— Мистер Пратт, а как вы оказались в Гималаях, если не секрет? Да ещё со своей машиной? Как такое возможно? Лос-Анджелес не близко.
Он отвечал медленно, дозируя каждое слово, в паузах словно бы переводя свою речь на другие языки:
— Я родился в Миссури. Но Средний Запад в те годы — это очень скучно. Пошёл в колледж. После колледжа думал учиться на летчика, но не сошлось. Стал торговать кофемашинами. Знаете, все эти гейзерные устройства, компрессионные устройства… Берите еще мясо, Лев, не стесняйтесь, вот так между хлебом кладёшь, и очень вкусно. …Да, устройства! К счастью, люди уже до меня выяснили, что оптимальный кофе — это 93 градуса вода, 9 атмосфер давление и 30 секунд на экстракцию. Это и есть эспрессо, кстати. Но люди не выяснили, что кофемашина должна быть удобной. А они, машины, были ужасны. Черт те что, а не техника… Ну, продавал, что было. Потом настал Вьетнам. Там меня приставили к ребятам, которые чинили вертолёты. Командование, видать, разглядело, что я рукастый… И отправили меня к механикам. Однажды я чинил вертолёт с неснятым боекомплектом, и прямо в кабину вертолёта прилетела узкоглазая мина. Об этом потом писали в армейской газете: между сержантом Праттом и взрывной волной оказалась дверь вертолёта. С дверью в руках я и пролетел почти полсотни метров. Она спасла мне жизнь. Когда я упал в узкоглазую грязищу… и меня накрыло этой дверью, к моей заднице прилепился бумажный листок. К удивлению, я потом прочитал, что на нём было написано: «Живи и не жди». Я понял, что Господа охватило сомнение насчёт моих дней, и я решил его больше не искушать. Не стал ждать. Я прекрасно понимал, что мне не быть знаменитым архитектором, хирургом или писателем. Но я разбирался в кофемашинах. Демобилизовался. В Лос-Анджелесе нашел товарища по колледжу, прыткий такой был итальянец. Мы разобрали стандартную кофемашину, чуток подправили её и собрали заново. В соседнем баре железка понравилась. Один модельер, который там каждый вечер напивался в хлам, сказал, что у нашей кофемашины дерьмовый рисунок. Так и сказал: «…чуваки, а у этой подруги дерьмовый рисунок!» Он взял и нарисовал другую кофемашину. Она выглядела точь-в-точь как корабль пришельцев. Мы знали, что никогда не сможем построить такую, но у нас появился чертёж того, к чему нужно стремиться. Потихоньку мы стали делать наши улучшенные кофемашины и подыскивать звучное имя. С этим не ладилось. На самом деле, бо́льшую часть денег мы тогда зарабатывали, занимаясь починкой старья. Каждая новая машина требовала огромного труда, а конвейера у нас не было. Как-то раз я шел по улице и увидел, что по асфальту ползает человек с лупой. Моя девушка сказала мне, что это по асфальту ползает гений, так как это тот самый Мавр, который может выправить любому иммигранту любой документ. Парень, которого звали Мавр, искал на асфальте какую-то посеребренную хрень тоньше волоса, оброненную им случайно. Я помог ему найти хрень и спросил, нет ли у него пары толковых работников для меня. Мавр сообщил, что есть не пара, а даже десяток мексиканских инженеров, готовых трудиться на совесть. Мы с итальянцем взяли шестерых. Поступили так: работники были в доле. Их доход зависел от того, сколько кофемашин они соберут за день. Таким образом, к началу восьмидесятых у нас был маленький завод. Бары по стране открывались как грибы, и каждый хотел нашу кофемашину. Потому что они очень, очень надежные. Мы принципиально не используем пластик. Вообще. На премиальную серию кофемашин нам переплавили танк. Ну, не весь. Часть. Мы сделали из брони 300 кофемашин. На них была особая юбилейная табличка. И как-то в июле ко мне пришли два господина в костюмах. В костюмах и черных очках. Они спросили, не могу ли я продать им одну кофемашину, но чтобы на табличке было моё имя. Метка мастера. Я спросил, зачем. Они говорят: «Это подарок Фиделю». В восьмидесятые было очень опасно в Америке делать такие подарки. Но я им сказал: если это подарок, то как же его можно купить? Подарок дарят. И я подарил одну кофемашину Фиделю, а потом одну немецкому канцлеру, а потом одну русскому скульптору. Тогда о нас впервые написал журнал. Настоящий толстый американский журнал. Они нас фотографировали на заводе, и я накануне купил себе первый костюм и галстук. Я не знал, какие нужны костюмы и галстуки, поэтому вспомнил тех ребят с Кубы. И купил такие же, как у них. В журнале мы с итальянцем смотрелись очень круто. Через пару лет я вспомнил о рисунке того модельера-алкоголика, я сохранил картинку. Мы сделали кофемашину, очень похожую на тот эскиз. Почти космический корабль. Она имела оглушительный успех. Её купили все рок-звёзды. Говорят, что именно ей какой-то политик убил свою жену за измену… Во сколько у нас связь вечером, ты не забыл, Лев?
— Мы в эфире с семи тридцати до восьми, времени навалом… А что с именем кофемашины, мистер Пратт? Вы придумали его?
— Безусловно, — кивнул Уильям. — Только не мы, а тот алкаш-модельер. Он, зараза, всё-таки не сдох от алкоголя, как его дружки-рокеры, купавшиеся на Вудстоке нагишом с безумными девицами… Очень яркое имя придумал нам, «Компания N».
Дело прояснялось. Уильям Пратт был совладельцем уважаемого крупного концерна.
— А как в Гималаях оказался этот Mercedes? — спросил я. — Извините за настойчивость, я повторяюсь…
— Да ерунда. Как бы тебе… попроще объяснить. Главная же страсть человека — это состояться, быть… не завершиться, заметь, но именно быть. А когда ты пытаешься состояться, ты неизбежно сталкиваешься с драмой свободы, потому что где бы мы ни находились, в каждой точке нашего дня, вот сейчас на этом камне — мы окружены хаосом, и наша свобода, читай, наша история, она ведь не имеет сама по себе внешнего движущего механизма. Нет его, нет, Лев. Я как-то часть своей жизни, уж не знаю успешно или нет, пытался этот механизм сформулировать. Знаешь, полковник Сандерс десятилетие положил на поиск рецептуры кляра для курицы, ваши Эрнст Неизвестный и Миша Шемякин полжизни убирают из пространства лишнее, чтобы оставить только прекрасное… И вокруг этих людей — хаос. Хаос сквозных информационных потоков, хаос богатства, хаос тщеславия. Небоскрёбы, наконец. Угольные шахты. Я много думал об этом, о том, что меня объединяет с этими людьми, и знаешь, что решил? Поддержание хорошего требует столько же сил, сколько и производство хорошего, и у каждой секунды этого процесса нет второго момента… Ты понимаешь, Лев? У каждой секунды подлинной работы второго момента нет, и ты обязан использовать эту секунду полноценно. Вот послушай: я же вижу, что ты не стремишься домой, в Россию. Ну, я старый, я вижу. Ты хочешь оставаться в пути. Почему?
— В канун русской драмы лучше измазаться земляникой где-нибудь под Марселем, — грустно ответил я.
— Всё правильно. Ты движешься сквозь пространство, ты же физик…
— Квантовая механика, сэр... Космология, теория Мультиверса.
— Во-оот… То есть как, Лев? Ты вне людей, ты в цифрах. Но в России так и будет драмтеатр, ежели такие, как ты, будут бегать вдали… О сложном надобно говорить! А это возможно только тогда, когда ты ежедневно пытаешься сделать лучше себя и улучшить результаты своего труда, так как если ты не пытаешься этого сделать — это означает, что ты замер и всё уже знаешь, а значит, ты умер; свободный же человек, сопротивляющийся хаосу, каждый день должен двигаться в направлении того, что познать нельзя в принципе. Именно поэтому меня смущает классическая трактовка Страшного Суда: там написано, что Суд свершится после окончания пути, но на самом-то деле он вершится ежесекундно. Вокруг нас и внутри нас. Я не полковник Сандерс и не гениальный скульптор, но я ежедневно просыпался и думал, как мне улучшить железную машину, дающую людям кофе. И я постепенно… Как бы тебе сказать… Разузнал себя: я не могу не улучшить металл, да и всякую вещь. Если бы я не улучшал металл, это означало бы, что я замер, что я всё уже знаю. А я ни черта не знаю, Лев. И людей, книги и машины я себе всю жизнь подбирал по такому же принципу: все они — улучшают что-то, превосходя себя. Кстати, поэтому мне понравился ваш русский Боря Лиссаневич, он наш человек, он улучшал чужую — вроде бы — ему страну. Ты знаешь, Лев, что здесь первый аэропорт обозвали «коровьим»? А знаешь почему? Потому что первый аэропорт Непала, аэропорт имени короля Трибхувана был на действующем коровьем поле, и пилотам, чтобы посадить самолет, требовалось сделать пару кругов… разогнать животных; коровы травой чавкали, и тут такие бравые парни на турбовинтовом: дрыз-зз-ззз… Королю дарили первую машину, так её слуги внесли во дворец на руках: дорог не было в принципе. И вот когда у меня случилась черная полоса в жизни, когда я решил, что надо бы уехать на год в горы, взяться за простой труд, я себе искал не машину даже… не машину, а друга, который может улучшить жизнь. Mercedes улучшил. Мы ведь тут построили пару школ, я возил на этом Gelandewagen и доски, и цемент, и детишек, и учебники, и глобусы — сколько в салон влезло… Тут по мере стройки вре́менные доски на крышах усиливают камнями: ветра бывают такие, что сдувают даже стропила незакрепленные; и джип возил камни, иногда и на прицепе… Как-то я прибился к этому куску металла, а он — ко мне. А ты, коли в Россию вернёшься, что будешь делать? Книгами да квантовой механикой на жизнь не заработать.
— Буду строить самолёт. А если повезёт, тогда и самолёты. Мы почти доделали новый материал... нанокомпозит. Сложно объяснить. В общем, если на Марсе когда-нибудь будет первое поселение, то часть конструкций оптимально делать именно из такого материала. На Марс я вряд ли попаду. Так что попытаюсь создать самолёт. Ну, и какие-то идеи вокруг... Там куча всего. Можно делать спортивное снаряжение, можно делать электромобили. Кузов из нашего материала два парня могут поднять без проблем. Просто взять и поднять. Как сейчас в газетах пишут? "Материал будущего"!
Пратт покачал головой:
— Я всегда знал, что русские немного сумасшедшие. В моей прошлой жизни, в университетском кампусе... это было настолько страшно давно, что я теперь так и говорю: "...в моей прошлой жизни..." Был парень, мой сосед. У него была русская бабушка. Когда мы на Рождество приезжали к ней в Хартфорд, она говорила: мальчики, вот пирог с уткой, а вот пирог с яблоками. А вот две лопаты. А ну, пулей чистить снег вокруг дома! Прошла вечность, а я вспоминаю её с благодарностью; это счастье, что Господь свёл меня с такой женщиной. Её жизнь была работа, её отдых был труд. Может, я бы и не стал тем, кем стал, не познакомься мы тогда. ...Послушай, Лев, ты взял фотоаппарат с собой? У тебя ведь был такой… маленький - симпатичненький…
— А как же. Что снимаем?
— Дождя со снегом не было, с рисунком мальчика вряд ли что-то за час случилось… Нам, кстати, надо выдвигаться уже, скоро эфир… И ты заметил, что помимо угля там ещё вот эти разноцветные их краски непальские, они с известью растительные пигменты в ступе мельчат, потом добавляют масла чуток… Как он там назвал того, что поменьше, в хламиде черной?
— Капеллан ангела, сэр, — уточнил я. — На самом деле, ничего удивительного: тут порой десятилетние ребята такое выдают, что глаза на лоб… Древнейшая школа мысли, все идеи — крупным шрифтом. А монах в Пекине учился, ну, стало быть… Знаете, когда-то достижением науки была фотография Гоголя, а сейчас говорят о квантификации генов. Так вот буддисты — они ни там ни сям. И не в кванте, и не в бумаге. У них обособленное пространство. В Лха́се это особенно заметно.
— М-мда... Ну что, дружище, потопали? И слушай, а чего ты всё молчал эти три дня? — спросил Пратт.
Я улыбнулся:
— В свою очередь хотел спросить это у вас, мистер Пратт.
— Понятно, — кивнул старик. Снял ковбойскую шляпу, шлёпнул ею о колено; облачко каменной пыли взмыло в воздух и подалось в сторону слюдяной стрекозы и мухи лохматой; опало, не тронуло ни ту, ни другую… — В Гималаях, как всегда, встретились два эгоиста, Лев. Не помню автора, рискнувшего своей репутацией, но на таких цитатах я раньше загибал углы страниц: «Самая лучшая группа альпинистов состоит из максимально эгоистичных людей, просто каждый эгоист до того хорошо на маршруте делает именно свою работу, что при сложении усилий получается великолепный результат…» Помню, возил своего маленького Дэвида в Колорадо... час по скалам вверх, потом час по долбанному каньону, потом на здоровенный камень; я ему говорил: "Это сделал ты. То, что сделали другие, плюсуется к результату, но без твоего труда результата не было бы. Ты покорил вершину. Это сделал ты!" Как там ваши на горе, кстати? Все живы? Аннапурна в этом сезоне с погодой дурит.
— Все, — ответил я. — И были, и будут, сэр. А как иначе?
Было видно, что мальчик выискивает слово именно для европейца (тибетская учтивость к иноземцу).
Нашёл. Произнёс:
— Это ангел, сэр.
Он это сказал на чистейшем английском, и удивительного тут мало: по облику юноши совершенно очевидно, что школу он посещает, и не факт, что только в Азии; я встречал в Непале, порой в самых глухих местах, молодых людей образования отменного, и карту метро Лондона они, кстати, знали лучше меня.
— А кто же э́то такой? — спросил Уильям, указав пальцем.
Там был второй угольный нарисован, поменьше, фигурка неказистая, длинные волосы прибраны резинкой, и вокруг тела то ли халат, то ли… мешок какой-то с рукавами.
— Это капеллан ангела, сэр, — уверенно сказал монах. — Он прикрывает свечу, чтобы ангелу были лучше видны звёзды. Но я не успел до вашего прихода нарисовать свечу и звёзды. Извините, сэр.
…А вот это было совершенно по-тибетски.
Это и есть буддизм.
Это серьёзно. Каждое слово — «цитата в мембране времени», как говорил мне один востоковед.
Пратта, видимо, тоже прохватило. Он молитвенно сложил ладони под подбородком, поклонился мальчику и сказал:
— Извини, что мы тебя отвлекли. Мы пойдём. Прости только за любопытство: ты учился в Европе?
— В Китае, сэр. В Пекине. Два года.
— О, тогда всё понятно. Удачи!
…Мы набрали по тропе меж рисовых полей метров сто высоты, на удобном плоском валуне уселись, Уильям достал хлеб с мясом, немного вина. Принялись жевать и чавкать. Молчать. Но уж сколько можно молчать, третий день. И старина Пратт с усмешкой заявил:
— Тот техасский чудак-миллионер, Том Слик. Слышал, Лев? Искал здесь йети. Всё порывался исследовать скальп йети из монастыря Кхумбу. Исследовали. Оказалось — череп дикой гималайской козы возрастом около трёхсот лет. Подделка.
Я решил пойти ва-банк:
— Мистер Пратт, а как вы оказались в Гималаях, если не секрет? Да ещё со своей машиной? Как такое возможно? Лос-Анджелес не близко.
Он отвечал медленно, дозируя каждое слово, в паузах словно бы переводя свою речь на другие языки:
— Я родился в Миссури. Но Средний Запад в те годы — это очень скучно. Пошёл в колледж. После колледжа думал учиться на летчика, но не сошлось. Стал торговать кофемашинами. Знаете, все эти гейзерные устройства, компрессионные устройства… Берите еще мясо, Лев, не стесняйтесь, вот так между хлебом кладёшь, и очень вкусно. …Да, устройства! К счастью, люди уже до меня выяснили, что оптимальный кофе — это 93 градуса вода, 9 атмосфер давление и 30 секунд на экстракцию. Это и есть эспрессо, кстати. Но люди не выяснили, что кофемашина должна быть удобной. А они, машины, были ужасны. Черт те что, а не техника… Ну, продавал, что было. Потом настал Вьетнам. Там меня приставили к ребятам, которые чинили вертолёты. Командование, видать, разглядело, что я рукастый… И отправили меня к механикам. Однажды я чинил вертолёт с неснятым боекомплектом, и прямо в кабину вертолёта прилетела узкоглазая мина. Об этом потом писали в армейской газете: между сержантом Праттом и взрывной волной оказалась дверь вертолёта. С дверью в руках я и пролетел почти полсотни метров. Она спасла мне жизнь. Когда я упал в узкоглазую грязищу… и меня накрыло этой дверью, к моей заднице прилепился бумажный листок. К удивлению, я потом прочитал, что на нём было написано: «Живи и не жди». Я понял, что Господа охватило сомнение насчёт моих дней, и я решил его больше не искушать. Не стал ждать. Я прекрасно понимал, что мне не быть знаменитым архитектором, хирургом или писателем. Но я разбирался в кофемашинах. Демобилизовался. В Лос-Анджелесе нашел товарища по колледжу, прыткий такой был итальянец. Мы разобрали стандартную кофемашину, чуток подправили её и собрали заново. В соседнем баре железка понравилась. Один модельер, который там каждый вечер напивался в хлам, сказал, что у нашей кофемашины дерьмовый рисунок. Так и сказал: «…чуваки, а у этой подруги дерьмовый рисунок!» Он взял и нарисовал другую кофемашину. Она выглядела точь-в-точь как корабль пришельцев. Мы знали, что никогда не сможем построить такую, но у нас появился чертёж того, к чему нужно стремиться. Потихоньку мы стали делать наши улучшенные кофемашины и подыскивать звучное имя. С этим не ладилось. На самом деле, бо́льшую часть денег мы тогда зарабатывали, занимаясь починкой старья. Каждая новая машина требовала огромного труда, а конвейера у нас не было. Как-то раз я шел по улице и увидел, что по асфальту ползает человек с лупой. Моя девушка сказала мне, что это по асфальту ползает гений, так как это тот самый Мавр, который может выправить любому иммигранту любой документ. Парень, которого звали Мавр, искал на асфальте какую-то посеребренную хрень тоньше волоса, оброненную им случайно. Я помог ему найти хрень и спросил, нет ли у него пары толковых работников для меня. Мавр сообщил, что есть не пара, а даже десяток мексиканских инженеров, готовых трудиться на совесть. Мы с итальянцем взяли шестерых. Поступили так: работники были в доле. Их доход зависел от того, сколько кофемашин они соберут за день. Таким образом, к началу восьмидесятых у нас был маленький завод. Бары по стране открывались как грибы, и каждый хотел нашу кофемашину. Потому что они очень, очень надежные. Мы принципиально не используем пластик. Вообще. На премиальную серию кофемашин нам переплавили танк. Ну, не весь. Часть. Мы сделали из брони 300 кофемашин. На них была особая юбилейная табличка. И как-то в июле ко мне пришли два господина в костюмах. В костюмах и черных очках. Они спросили, не могу ли я продать им одну кофемашину, но чтобы на табличке было моё имя. Метка мастера. Я спросил, зачем. Они говорят: «Это подарок Фиделю». В восьмидесятые было очень опасно в Америке делать такие подарки. Но я им сказал: если это подарок, то как же его можно купить? Подарок дарят. И я подарил одну кофемашину Фиделю, а потом одну немецкому канцлеру, а потом одну русскому скульптору. Тогда о нас впервые написал журнал. Настоящий толстый американский журнал. Они нас фотографировали на заводе, и я накануне купил себе первый костюм и галстук. Я не знал, какие нужны костюмы и галстуки, поэтому вспомнил тех ребят с Кубы. И купил такие же, как у них. В журнале мы с итальянцем смотрелись очень круто. Через пару лет я вспомнил о рисунке того модельера-алкоголика, я сохранил картинку. Мы сделали кофемашину, очень похожую на тот эскиз. Почти космический корабль. Она имела оглушительный успех. Её купили все рок-звёзды. Говорят, что именно ей какой-то политик убил свою жену за измену… Во сколько у нас связь вечером, ты не забыл, Лев?
— Мы в эфире с семи тридцати до восьми, времени навалом… А что с именем кофемашины, мистер Пратт? Вы придумали его?
— Безусловно, — кивнул Уильям. — Только не мы, а тот алкаш-модельер. Он, зараза, всё-таки не сдох от алкоголя, как его дружки-рокеры, купавшиеся на Вудстоке нагишом с безумными девицами… Очень яркое имя придумал нам, «Компания N».
Дело прояснялось. Уильям Пратт был совладельцем уважаемого крупного концерна.
— А как в Гималаях оказался этот Mercedes? — спросил я. — Извините за настойчивость, я повторяюсь…
— Да ерунда. Как бы тебе… попроще объяснить. Главная же страсть человека — это состояться, быть… не завершиться, заметь, но именно быть. А когда ты пытаешься состояться, ты неизбежно сталкиваешься с драмой свободы, потому что где бы мы ни находились, в каждой точке нашего дня, вот сейчас на этом камне — мы окружены хаосом, и наша свобода, читай, наша история, она ведь не имеет сама по себе внешнего движущего механизма. Нет его, нет, Лев. Я как-то часть своей жизни, уж не знаю успешно или нет, пытался этот механизм сформулировать. Знаешь, полковник Сандерс десятилетие положил на поиск рецептуры кляра для курицы, ваши Эрнст Неизвестный и Миша Шемякин полжизни убирают из пространства лишнее, чтобы оставить только прекрасное… И вокруг этих людей — хаос. Хаос сквозных информационных потоков, хаос богатства, хаос тщеславия. Небоскрёбы, наконец. Угольные шахты. Я много думал об этом, о том, что меня объединяет с этими людьми, и знаешь, что решил? Поддержание хорошего требует столько же сил, сколько и производство хорошего, и у каждой секунды этого процесса нет второго момента… Ты понимаешь, Лев? У каждой секунды подлинной работы второго момента нет, и ты обязан использовать эту секунду полноценно. Вот послушай: я же вижу, что ты не стремишься домой, в Россию. Ну, я старый, я вижу. Ты хочешь оставаться в пути. Почему?
— В канун русской драмы лучше измазаться земляникой где-нибудь под Марселем, — грустно ответил я.
— Всё правильно. Ты движешься сквозь пространство, ты же физик…
— Квантовая механика, сэр... Космология, теория Мультиверса.
— Во-оот… То есть как, Лев? Ты вне людей, ты в цифрах. Но в России так и будет драмтеатр, ежели такие, как ты, будут бегать вдали… О сложном надобно говорить! А это возможно только тогда, когда ты ежедневно пытаешься сделать лучше себя и улучшить результаты своего труда, так как если ты не пытаешься этого сделать — это означает, что ты замер и всё уже знаешь, а значит, ты умер; свободный же человек, сопротивляющийся хаосу, каждый день должен двигаться в направлении того, что познать нельзя в принципе. Именно поэтому меня смущает классическая трактовка Страшного Суда: там написано, что Суд свершится после окончания пути, но на самом-то деле он вершится ежесекундно. Вокруг нас и внутри нас. Я не полковник Сандерс и не гениальный скульптор, но я ежедневно просыпался и думал, как мне улучшить железную машину, дающую людям кофе. И я постепенно… Как бы тебе сказать… Разузнал себя: я не могу не улучшить металл, да и всякую вещь. Если бы я не улучшал металл, это означало бы, что я замер, что я всё уже знаю. А я ни черта не знаю, Лев. И людей, книги и машины я себе всю жизнь подбирал по такому же принципу: все они — улучшают что-то, превосходя себя. Кстати, поэтому мне понравился ваш русский Боря Лиссаневич, он наш человек, он улучшал чужую — вроде бы — ему страну. Ты знаешь, Лев, что здесь первый аэропорт обозвали «коровьим»? А знаешь почему? Потому что первый аэропорт Непала, аэропорт имени короля Трибхувана был на действующем коровьем поле, и пилотам, чтобы посадить самолет, требовалось сделать пару кругов… разогнать животных; коровы травой чавкали, и тут такие бравые парни на турбовинтовом: дрыз-зз-ззз… Королю дарили первую машину, так её слуги внесли во дворец на руках: дорог не было в принципе. И вот когда у меня случилась черная полоса в жизни, когда я решил, что надо бы уехать на год в горы, взяться за простой труд, я себе искал не машину даже… не машину, а друга, который может улучшить жизнь. Mercedes улучшил. Мы ведь тут построили пару школ, я возил на этом Gelandewagen и доски, и цемент, и детишек, и учебники, и глобусы — сколько в салон влезло… Тут по мере стройки вре́менные доски на крышах усиливают камнями: ветра бывают такие, что сдувают даже стропила незакрепленные; и джип возил камни, иногда и на прицепе… Как-то я прибился к этому куску металла, а он — ко мне. А ты, коли в Россию вернёшься, что будешь делать? Книгами да квантовой механикой на жизнь не заработать.
— Буду строить самолёт. А если повезёт, тогда и самолёты. Мы почти доделали новый материал... нанокомпозит. Сложно объяснить. В общем, если на Марсе когда-нибудь будет первое поселение, то часть конструкций оптимально делать именно из такого материала. На Марс я вряд ли попаду. Так что попытаюсь создать самолёт. Ну, и какие-то идеи вокруг... Там куча всего. Можно делать спортивное снаряжение, можно делать электромобили. Кузов из нашего материала два парня могут поднять без проблем. Просто взять и поднять. Как сейчас в газетах пишут? "Материал будущего"!
Пратт покачал головой:
— Я всегда знал, что русские немного сумасшедшие. В моей прошлой жизни, в университетском кампусе... это было настолько страшно давно, что я теперь так и говорю: "...в моей прошлой жизни..." Был парень, мой сосед. У него была русская бабушка. Когда мы на Рождество приезжали к ней в Хартфорд, она говорила: мальчики, вот пирог с уткой, а вот пирог с яблоками. А вот две лопаты. А ну, пулей чистить снег вокруг дома! Прошла вечность, а я вспоминаю её с благодарностью; это счастье, что Господь свёл меня с такой женщиной. Её жизнь была работа, её отдых был труд. Может, я бы и не стал тем, кем стал, не познакомься мы тогда. ...Послушай, Лев, ты взял фотоаппарат с собой? У тебя ведь был такой… маленький - симпатичненький…
— А как же. Что снимаем?
— Дождя со снегом не было, с рисунком мальчика вряд ли что-то за час случилось… Нам, кстати, надо выдвигаться уже, скоро эфир… И ты заметил, что помимо угля там ещё вот эти разноцветные их краски непальские, они с известью растительные пигменты в ступе мельчат, потом добавляют масла чуток… Как он там назвал того, что поменьше, в хламиде черной?
— Капеллан ангела, сэр, — уточнил я. — На самом деле, ничего удивительного: тут порой десятилетние ребята такое выдают, что глаза на лоб… Древнейшая школа мысли, все идеи — крупным шрифтом. А монах в Пекине учился, ну, стало быть… Знаете, когда-то достижением науки была фотография Гоголя, а сейчас говорят о квантификации генов. Так вот буддисты — они ни там ни сям. И не в кванте, и не в бумаге. У них обособленное пространство. В Лха́се это особенно заметно.
— М-мда... Ну что, дружище, потопали? И слушай, а чего ты всё молчал эти три дня? — спросил Пратт.
Я улыбнулся:
— В свою очередь хотел спросить это у вас, мистер Пратт.
— Понятно, — кивнул старик. Снял ковбойскую шляпу, шлёпнул ею о колено; облачко каменной пыли взмыло в воздух и подалось в сторону слюдяной стрекозы и мухи лохматой; опало, не тронуло ни ту, ни другую… — В Гималаях, как всегда, встретились два эгоиста, Лев. Не помню автора, рискнувшего своей репутацией, но на таких цитатах я раньше загибал углы страниц: «Самая лучшая группа альпинистов состоит из максимально эгоистичных людей, просто каждый эгоист до того хорошо на маршруте делает именно свою работу, что при сложении усилий получается великолепный результат…» Помню, возил своего маленького Дэвида в Колорадо... час по скалам вверх, потом час по долбанному каньону, потом на здоровенный камень; я ему говорил: "Это сделал ты. То, что сделали другие, плюсуется к результату, но без твоего труда результата не было бы. Ты покорил вершину. Это сделал ты!" Как там ваши на горе, кстати? Все живы? Аннапурна в этом сезоне с погодой дурит.
— Все, — ответил я. — И были, и будут, сэр. А как иначе?
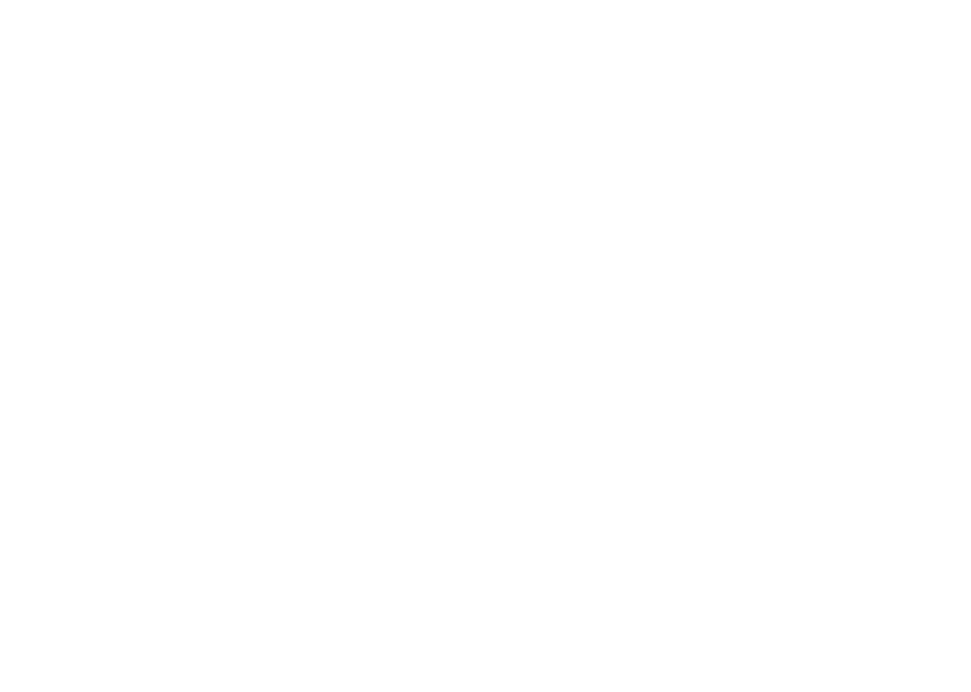
HOME
FAQ | ДОСТАВКА И ВОЗВРАТ | ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
COVID-19 | GIFT CARDS | STUDENTS | CAREERS | ГАРАНТИЯ
CONTACT US | VK | TELEGRAM | BLOGGER | TELETYPE | PINTEREST
Bellington 2022 | Все права защищены
FAQ | ДОСТАВКА И ВОЗВРАТ | ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
COVID-19 | GIFT CARDS | STUDENTS | CAREERS | ГАРАНТИЯ
CONTACT US | VK | TELEGRAM | BLOGGER | TELETYPE | PINTEREST
Bellington 2022 | Все права защищены
